Тихие герои в малицах
Как на оленьих упряжках спасали Кольское Заполярье в годы войны
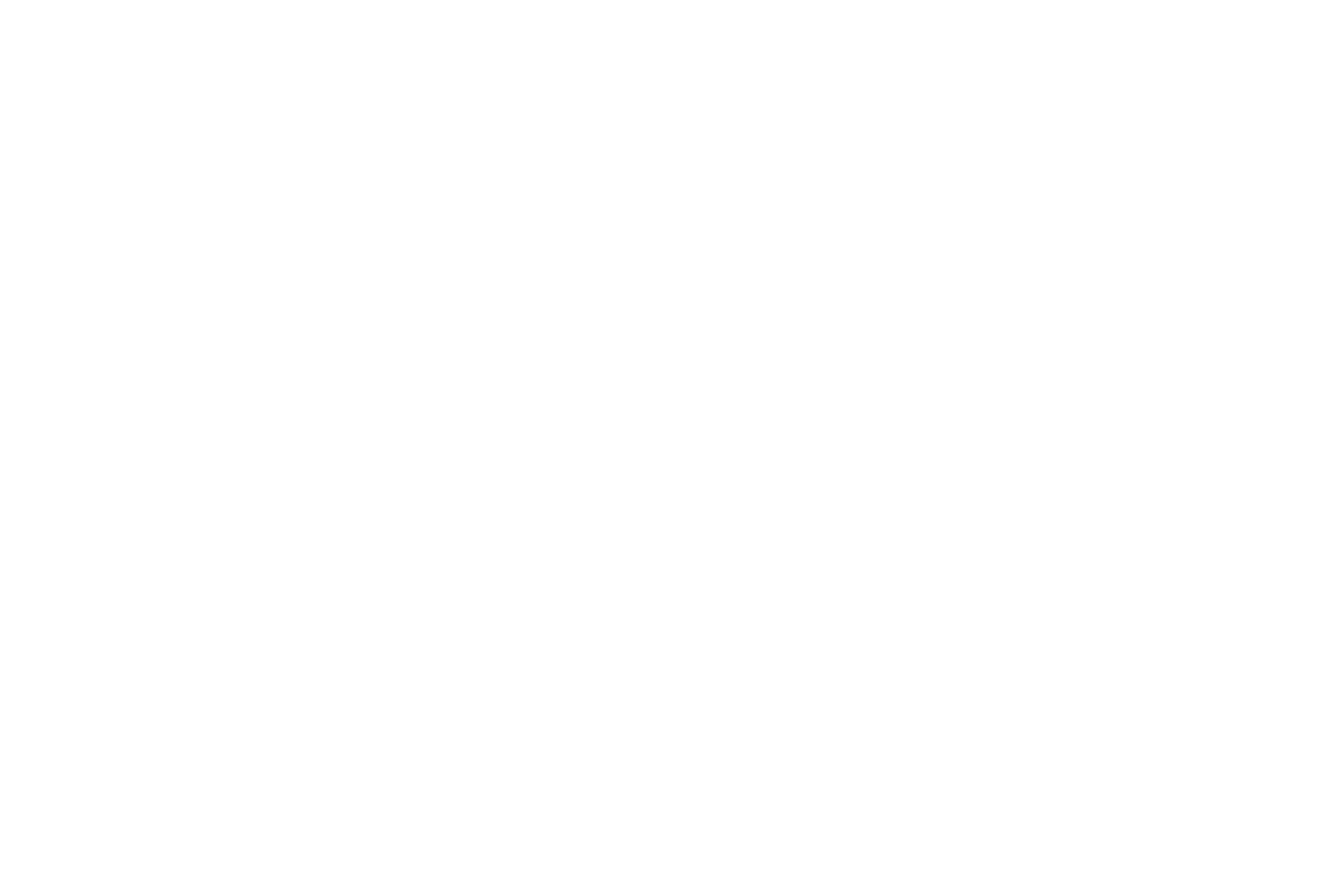
В 2020 году в Мурманске появился памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов». (Фото: Олег ФИЛОНОК)
20 ноября в Мурманской области вспоминают тех, кто без дорог, в заснеженном море зимы и без права на ошибку помогал Северному фронту - бойцов оленетранспортных батальонов. Удивительные люди в меховых малицах, управлявшие упряжками вместо автомобилей и танков, стали теми самыми тихими героями, без которых оборона Советского Заполярья могла сложиться совсем иначе.
Когда в 1941 году линия фронта застыла в скалах и тундре Кольского полуострова, стало ясно: обычная техника в этих условиях бессильна. Сугробы перекрывали дороги за час, ветер поднимался внезапно, а мороз сковывал дыхание. В таких местах выживали только те, кто веками следовал законам Крайнего Севера. Именно тогда командование вспомнило о саами и оленях. Олений транспорт уже испытали в финскую войну, и животные показали, что могут тянуть груз в десять раз тяжелее собственного веса. Но полностью развернуть идею до начала Великой Отечественной войны не успели. Делать пришлось на ходу.
В ноябре 1941-го для 14-й армии Карельского фронта оленеводы собрали первые три транспорта, целиком на упряжках. В них вошли 154 человека, среди которых 77 были опытными каюрами (погонщиками оленей. – Ред.). Вместо грузовиков - 76 легких нарт и 270 грузовых, вместо моторов - северные олени и 15 оленегонных собак. Потом сформировали еще четыре подразделения. За всю войну только ловозерские оленеводы передали фронту почти шесть тысяч оленей, больше полутора тысяч комплектов упряжи и свыше тысячи нарт.
Обстановку тех лет очень точно описал Семен Шерстобитов - командир одного из таких подразделений. Кусочек его очерка «Фронтовые дороги на Крайнем Севере» можно найти в сборнике «Война глазами северян» Госархива Мурманской области.
Рельеф в районе стабилизации фронта был «резко пересечено-скалистый», а тундра и леса Карелии зимой покрывались глубокими снежными заносами. В условиях, когда дороги превращались в белое ничто, техника сдавалась первой.
Шерстобитов вспоминал: «Военные дороги зимой, в период частых буранов, становились непроходимыми «ни конному, ни пешему», «ни автомобилю, ни трактору». Через час-два ветреной погоды колонны останавливались, и тогда в ход шли олени. Бывало, едет по дороге легковая машина, за ней грузовик с двумя-тремя упряжками в кузове - на всякий случай.
- Подул ветерок - встала легковая. Потом забуксовала и грузовая. Прыгают тогда олешки из кузова… И будьте уверены, не забуксуют до места назначения, - писал очеркист.
Северный олень в тылу врага становился почти идеальным бойцом. Он бесшумен, находит корм под снегом и может идти по целине, куда ни одна машина не сунется. Суточный пробег упряжки достигал 240–250 километров - это темп хорошо подготовленного автомобиля, если бы тот мог выдержать местные условия. Неудивительно, что на оленях доставляли буквально все: спецдонесения, боеприпасы, продовольствие, дрова, горючее, перевозили командиров и раненых.
Личный состав оленетранспортных подразделений состоял главным образом из народностей Севера: ненцев, саами, коми, ханты, манси, карелов. Значительное число было и русских оленеводов из Мурманской, Архангельской областей и Коми. Все они работали практически без отдыха. О своих сослуживцах Шерстобитов писал с уважением: «Отличные наездники, меткие стрелки, выносливые, сметливые, честные и дружные ребята».
На счету подразделений было немало славных боевых дел. Так, саами Иван Пьянов в первый же свой боевой выход в декабре 1941 года, находясь с оленьей упряжкой в тылу врага, обнаружил контрольную лыжню вражеского охранения.
- Он замаскировался… а когда на ней показался гитлеровец - молниеносно накинул на него аркан». За этот подвиг Пьянов получил медаль «За отвагу». Товарищ Пьянов - сын Кольской земли, ловозерский оленевод, - отметил Шерстобитов.
Работа оленетранспортных батальонов не ограничивалась перевозками. Они участвовали в разведке, рейдах, доставляли горные пушки и минометы в тыл врага - немцы не ожидали появления артиллерии там, куда даже лыжники шли с трудом. Нередко именно олени первыми добирались к сбитым самолетам.
- К упавшему самолету спешили на оленьих упряжках, оказывали помощь раненым летчикам, отво-зили их в санчасть. Разбирали самолеты и ценный металл, неповрежденные части вывозили к шоссе, в мастерские. Бывали случаи, когда после воздушных боев из-за нехватки горючего самолеты приземлялись вне аэродрома, к ним срочно на оленях подвозили горючее, и они снова поднимались в небо громить врага, - рассказывает автор.
Гитлеровское командование прекрасно понимало ценность этих батальонов. На уничтожение оленьих упряжек направляли авиацию и диверсантов, но, несмотря на все их усилия, оленеводы продолжали работать до конца войны. Этот транспорт в Заполярье был практически незаменим.
Память о тихих бойцах тундры в Мурманской области продолжает жить. Так, в 2020 году в Мурманске установили памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов» - оленевод, лыжник, олени в упряжке и лайка словно появляются из-за снежного склона сопки. Скульптура напоминает: Победу ковали не только танки и самолеты, но и те, кто шел по тундре в полярную ночь, оставляя за собой едва заметные следы полозьев.
Когда в 1941 году линия фронта застыла в скалах и тундре Кольского полуострова, стало ясно: обычная техника в этих условиях бессильна. Сугробы перекрывали дороги за час, ветер поднимался внезапно, а мороз сковывал дыхание. В таких местах выживали только те, кто веками следовал законам Крайнего Севера. Именно тогда командование вспомнило о саами и оленях. Олений транспорт уже испытали в финскую войну, и животные показали, что могут тянуть груз в десять раз тяжелее собственного веса. Но полностью развернуть идею до начала Великой Отечественной войны не успели. Делать пришлось на ходу.
В ноябре 1941-го для 14-й армии Карельского фронта оленеводы собрали первые три транспорта, целиком на упряжках. В них вошли 154 человека, среди которых 77 были опытными каюрами (погонщиками оленей. – Ред.). Вместо грузовиков - 76 легких нарт и 270 грузовых, вместо моторов - северные олени и 15 оленегонных собак. Потом сформировали еще четыре подразделения. За всю войну только ловозерские оленеводы передали фронту почти шесть тысяч оленей, больше полутора тысяч комплектов упряжи и свыше тысячи нарт.
Обстановку тех лет очень точно описал Семен Шерстобитов - командир одного из таких подразделений. Кусочек его очерка «Фронтовые дороги на Крайнем Севере» можно найти в сборнике «Война глазами северян» Госархива Мурманской области.
Рельеф в районе стабилизации фронта был «резко пересечено-скалистый», а тундра и леса Карелии зимой покрывались глубокими снежными заносами. В условиях, когда дороги превращались в белое ничто, техника сдавалась первой.
Шерстобитов вспоминал: «Военные дороги зимой, в период частых буранов, становились непроходимыми «ни конному, ни пешему», «ни автомобилю, ни трактору». Через час-два ветреной погоды колонны останавливались, и тогда в ход шли олени. Бывало, едет по дороге легковая машина, за ней грузовик с двумя-тремя упряжками в кузове - на всякий случай.
- Подул ветерок - встала легковая. Потом забуксовала и грузовая. Прыгают тогда олешки из кузова… И будьте уверены, не забуксуют до места назначения, - писал очеркист.
Северный олень в тылу врага становился почти идеальным бойцом. Он бесшумен, находит корм под снегом и может идти по целине, куда ни одна машина не сунется. Суточный пробег упряжки достигал 240–250 километров - это темп хорошо подготовленного автомобиля, если бы тот мог выдержать местные условия. Неудивительно, что на оленях доставляли буквально все: спецдонесения, боеприпасы, продовольствие, дрова, горючее, перевозили командиров и раненых.
Личный состав оленетранспортных подразделений состоял главным образом из народностей Севера: ненцев, саами, коми, ханты, манси, карелов. Значительное число было и русских оленеводов из Мурманской, Архангельской областей и Коми. Все они работали практически без отдыха. О своих сослуживцах Шерстобитов писал с уважением: «Отличные наездники, меткие стрелки, выносливые, сметливые, честные и дружные ребята».
На счету подразделений было немало славных боевых дел. Так, саами Иван Пьянов в первый же свой боевой выход в декабре 1941 года, находясь с оленьей упряжкой в тылу врага, обнаружил контрольную лыжню вражеского охранения.
- Он замаскировался… а когда на ней показался гитлеровец - молниеносно накинул на него аркан». За этот подвиг Пьянов получил медаль «За отвагу». Товарищ Пьянов - сын Кольской земли, ловозерский оленевод, - отметил Шерстобитов.
Работа оленетранспортных батальонов не ограничивалась перевозками. Они участвовали в разведке, рейдах, доставляли горные пушки и минометы в тыл врага - немцы не ожидали появления артиллерии там, куда даже лыжники шли с трудом. Нередко именно олени первыми добирались к сбитым самолетам.
- К упавшему самолету спешили на оленьих упряжках, оказывали помощь раненым летчикам, отво-зили их в санчасть. Разбирали самолеты и ценный металл, неповрежденные части вывозили к шоссе, в мастерские. Бывали случаи, когда после воздушных боев из-за нехватки горючего самолеты приземлялись вне аэродрома, к ним срочно на оленях подвозили горючее, и они снова поднимались в небо громить врага, - рассказывает автор.
Гитлеровское командование прекрасно понимало ценность этих батальонов. На уничтожение оленьих упряжек направляли авиацию и диверсантов, но, несмотря на все их усилия, оленеводы продолжали работать до конца войны. Этот транспорт в Заполярье был практически незаменим.
Память о тихих бойцах тундры в Мурманской области продолжает жить. Так, в 2020 году в Мурманске установили памятник «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов» - оленевод, лыжник, олени в упряжке и лайка словно появляются из-за снежного склона сопки. Скульптура напоминает: Победу ковали не только танки и самолеты, но и те, кто шел по тундре в полярную ночь, оставляя за собой едва заметные следы полозьев.
«
